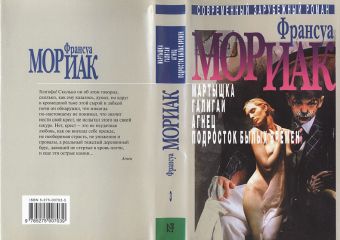Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]
Когда он проходил по площади Мадлен, где двигался нескончаемый поток фиакров и такси, полил дождь. Зонта у Пьера не было, но ему и подумать было страшно о том, чтоб вернуться в гостиницу, запереться в своем номере. Как все-таки унизительно, что он не может ввести в свою жизнь новых людей и позабыть тех, от кого отрекся. Теперь он ласковее отвечал на умоляющие письма матери и Робера. Только с Дени всякая связь как будто была действительно порвана, да и то он получал от Розы вести о своем бывшем друге.
Если бы он в тот вечер направился к себе в гостиницу, на улицу Турнон, ему пришлось бы идти мимо Люксембургского сада и уж наверняка он остановился бы у решетки и, прижавшись к чугунным прутьям, с наслаждением вдыхал бы запах мокрой земли. Атис и Кибела уже не пробегали по болотистым лугам, как в дни его детства, — теперь они страдали в Латинском квартале Парижа, став пленниками старого сада, исхоженного многими поколениями его юных посетителей.
Так как дождь полил сильнее, Пьер зашел в попавшийся ему на дороге мюзик-холл «Олимпия». Он подумал: «Надо же укрыться от дождя», — но в то же время говорил себе: «Удобный предлог для того, чтобы потолкаться среди завсегдатаев, понаблюдать физиономии и повадки всей этой публики, которая будет бродить вокруг меня, послушать, как перекликаются женщины, сидя на высоких табуретах у буфетных стоек… Но больше уж ни одной капли спиртного сегодня!..»
Он заплатил два франка за входной билет в партер. «Да это заведение совсем и не место для тебя», — думал он. В зеркалах он видел свое отражение: широкоплечий и крепкий румяный малый с красными ушами, а кругом такие бескровные, бледные лица. В зале плавали сизые облака табачного дыма, и в этом дыму толпа напевала слова песенки, которую заиграл оркестр. Вышел откормленный, как свинья, певец в облегающем фраке и с цветком в петлице; хохол из накладных волос удлинял его белую и плоскую, как круг швейцарского сыра, физиономию, глаза совсем заплыли, приплюснутый нос походил на куриную гузку. Словом, лицо его и жирный зад были под стать друг другу. Он подхватывал длинную фалду фрака, как подол женского платья, делал вид, что несет картонку со шляпой, вытаскивал из своих волос воображаемые шпильки. Все его шансонетки кончались словами: «А девять месяцев спустя…» или же пакостными намеками на секретные счета аптекаря. Всякий раз, как он уходил за кулисы, публика выла от восторга, без конца вызывала своего кумира, каждый требовал свою любимую шансонетку. Пьер думал о том, что между убогой непристойностью этих песенок и вожделением его Атиса и Кибелы, может быть, и нет разницы в самой природе этого чувства. Вдруг он ощутил на себе чей-то взгляд и обернулся. Где же он видел эти светлые глаза, эти голубые, как незабудки, глаза?
— Не узнаете, мсье Костадо? Верно, потому, что я сбрил бороду… Да и шьют портные в Париже получше, чем в Бордо…
Пьер в изумлении думал: «Как! Это Ланден?… Вот этот господин, от которого пахнет такими хорошими духами, — Ланден?… Это припудренное лицо с острым подбородком, затененное полями дорогой фетровой надвинутой на глаза, — это лицо Ландена?…» Он тщетно старался найти в этом раздушенном щеголе сходство с бородатым клерком, который всегда отвешивал низкий поклон, встречаясь с ним по четвергам на лестнице в особняке Оскара Револю. А Ланден уже принялся его расспрашивать. Мсье Костадо в Париже проездом? Ах, он думает поселиться здесь? Как интересно! Вероятно, он хочет заняться литературой? Ведь в Париже уже кое-что слышали о замечательном его поэтическом творении — «Атис и Кибела»…
— О, я вижу, вас огорчает моя нескромность, — добавил он, заметив сердитое и упрямое выражение, появившееся на липе Пьера. — Но я, видите ли, теперь связан с журналистами. Я контролирую несколько газет, но, должен сказать, поэзией они мало занимаются… Впрочем, совсем еще не поздно отвести в них место и поэзии.
Сразу заинтересовавшись, Пьер спросил, что это за газеты. Ланден назвал, но Пьер не знал ни одной из них, кроме «Кривой сороки», — эту газету ему случалось просматривать в парикмахерской.
— Верьте слову, мсье Костадо, на любую газету надо смотреть как на трибуну, а каково направление газеты — это не суть важно. И знаете что, давайте-ка спустимся в бар, здесь неудобно разговаривать, очень шумно и публика кругом неприятная.
Спустились по узкой лесенке в бар. Среди продажных женщин, выстроившихся в ряд перед стойкой с закусками, Пьеру бросилась в глаза разряженная негритянка уже не первой молодости.
— Какое шампанское вы предпочитаете? Мумм? Кордон руж?
Пьер не посмел признаться, что он и так уж крепко выпил, его тронуло внимание, проявленное к нему Ланденом. А тот с какой-то жадностью ждал его ответов на различные свои вопросы и, казалось, ловил их на лету. Как Пьеру живется в Париже? На первых порах, должно быть, нелегко? Оказывается, Ландену всегда было очень жаль молодых провинциалов, приезжающих в столицу. Какой у этих бедных юношей растерянный вид, когда они выходят с вокзала на Кэ д'Орсе. Как им, верно, тут одиноко! Мсье Костадо, конечно, частенько вспоминает о своем друге Дени? Нет? Совсем не вспоминает? Ах, вот как!.. Кто бы мог подумать? Впрочем, эти детки покойного Оскара Револю… Лучше Ландена, конечно, никто их не знает, ведь они родились и выросли на его глазах. Верно? Боже ты мой господи, сколько он мог бы порассказать об этой семье! А что о них думает мсье Костадо? Уж у него-то, несомненно, есть свое собственное мнение о друзьях детства… Между нами говоря, у них весьма скверная наследственность!
Вскоре Ландену уже не нужно была засыпать своего собеседника вопросами — Пьер и сам, почти не замечая этого, пустился в разговор. Он вознаграждал себя за два долгих месяца гнетущего одиночества. А общество Ландена так располагало к откровенным излияниям, слова сами собой срывались с языка. Как Ланден чудесно умел слушать! Весь обращался в слух и внимание. Ему очень хотелось знать истинную причину приезда Пьера в Париж. Пьеру нечего было скрывать и стыдиться — причина вот какая: разрыв Робера с Розой Револю, подлый поступок родного брата.
— Как жаль! — прервал его Ланден. — Ну что бы вам приехать месяцем раньше, вы, наверно, встретились бы со своим старшим братом: ведь Гастон тут жил с Региной Лорати, знаете ее? А сейчас они оба в Брюсселе… Лорати получила там ангажемент, — боюсь, однако, что ненадолго…
Пьер возмущенно заявил, что если б он встретил в Париже своего брата Гастона, то отвернулся бы от наго. Подливая ему вина, Ланден выразил восхищение такой непримиримостью, но предупредил, что очень скоро Пьер от нее откажется: жизнь в Париже не благоприятствует прямолинейности. Пьер в этом рано или поздно убедится на своем собственном опыте, если только уже не успел убедиться. Пьер залился краской, и тогда Ланден возликовал:
— Уже успели? Да? Готово? Ну, расскажите все откровенно, раз уж у нас зашла речь о таких делишках…
Он жадно заглядывал в глаза Пьеру, а тот, по милости шампанского, не видел перед собой чудовища. Наступала очень важная для Ландена минута — минута, как он говорил, «глубинных признаний», от которых все зависело, ибо, исходя из них, Ланден соответствующим образом вел себя с новообращенным.
Пьер охотно пустился в откровенности. Но он нес какую-то несусветную чепуху. Ланден даже решил, что глупый мальчишка просто насмехается над ним. Он, оказывается, собрался отречься от своего класса, отказаться от богатства, больше не пользоваться жизненными благами и всяческими привилегиями — словом, «выйти из рамок существующей социальной системы». Он уже было сделал первый шаг — поступил учеником в типографию, но с самого начала почувствовал отвращение к этому занятию. Тотчас же, конечно, сами собой возникли доводы против этого плана — вроде следующих, например, соображений: нет никакой необходимости самому ставить себя в ужаснейшие условия наемного труда, против которых ты намереваешься бороться; если поэт хочет служить человечеству, незачем ему пачкать себе руки черной работой, найдется для него дело получше. Но Пьер не пожелал обманывать себя утешительными предлогами — нет, нет, он прекрасно знает подлинные причины провала своих благих намерений: лень, чревоугодие, чувственность и спесь.
Пьер говорил, говорил, останавливался на минутку для того, чтобы выпить вина, и снова начинал разглагольствовать, а Ланден слушал, не спуская с него пронзительного взгляда, и посмеивался, прикрывая рот широкой, как лопата, ладонью.
— Вы только еще вступили на жизненный путь, мсье Костадо, вам еще многое предстоит изведать. Но думается, вы теперь двинетесь вперед гигантскими шагами… Теперь вот, издали, вам, верно, кажутся весьма забавными эти три дня, проведенные в типографии. Подумать только — сын мсье Костадо стоит за наборной кассой! Между нами говоря, рабочие не так уж хорошо себя ведут, верно, а? Воображаю, чего вы там насмотрелись, а? Наверно, они хотели насильно затащить вас в публичный дом? Нет? Да неужели? Не тащили? Удивительное дело! Вам просто попались какие-то феномены! А скажите, подвергали они вас, так сказать, всестороннему осмотру! Неужели нет? (Он задыхался от хохота.) Что за чудеса! В этой типографии были, конечно, и женщины, так неужели бабенки не пытались?… Вы меня, ей-богу, удивляете…


![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/138346/138346.jpg)
![Франсуа Мориак - Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/136407/136407.jpg)